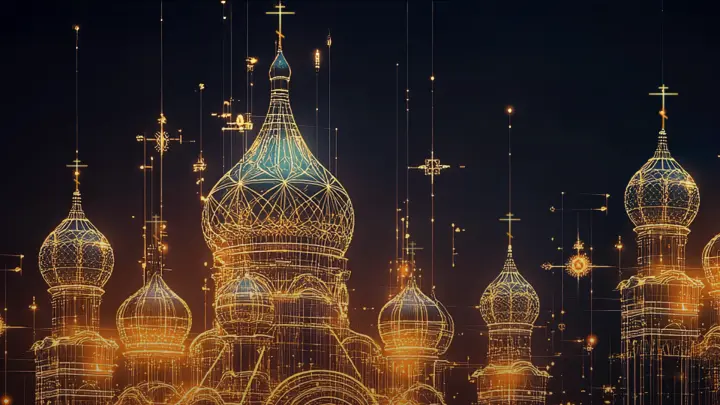Что читают дети и что читать
В Facebook кипит дискуссия о детской литературе. Началось всё с вопроса литературного критика Галины Юзефович о том, что посоветовать почитать 14-летнему мальчику. После чего началась жестокая "сшибка" между сторонниками старого проверенного советским детством "худлита" — Дюма и Жюль Верн, Джек Лондон и Аркадий Гайдар — и сторонниками новых-модных-продвинутых-современных книг
Нас с вами, конечно, в эти литературные гостиные, где ведутся высокие споры, и на порог не пустят. Но на самом деле у русских православных родителей, которые хотели бы передать своим детям не только образование и культуру, но еще и хотя бы начатки национального и религиозного мировоззрения, вопрос о том, что читать детям и как учить их читать, стоит еще более остро.
Мало того, еще и регулярно возникает вопрос: как защитить детей или хотя бы уменьшить дозу того облучения, которым их поражают современные "мейнстримные" культурные артефакты. Больше, конечно, кино и компьютерные игры, но и книги — не исключение.
Что читать ребенку русских православных образованных родителей? И как лучше это делать? Собственный обширный опыт в качестве ребенка-читателя и удостоверение члена многодетной семьи дают автору этих строк достаточное право на то, чтобы всерьез высказаться по этому вопросу.
Прежде всего необходимо отказаться от иллюзии, что существует какой-то отдельный от взрослого мир детского чтения. Так же как не существует, увы, отдельного "детского интернета" и наших чад сплошь и рядом выносит в интернет взрослый с его кровью, грязью и грубостью, так и не существует отдельного от взрослых детского книжного мира. Если вы, конечно, не намерены держать все книги в доме, кроме специально разрешенных для детей, под замком.
 Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Минимально интересующийся книгами ребенок обязательно будет хватать взрослые книги, чтобы как минимум в них заглянуть и посмотреть картинки, а, может быть, и в самом деле прочесть.
Детское чтение отличается от взрослого не составом книг, а исключительно меньшей систематичностью и более низким экспертным уровнем. Ребенок хватается за всё подряд, порой в очень хаотическом порядке, и понимает в прочитанном и увиденном гораздо меньше взрослого. Но набор тех книг, которые окажут на него влияние в первые десять лет жизни, может быть весьма причудлив.
В своем советском детстве я примерно на равных хватался за "Желтый туман" Александра Волкова и недетский сборник фантастики, посвященный проблеме времени — "Дорога воспоминаний", "Конька-Горбунка" и "Революционную сатиру эпохи Первой русской революции" (содержавшую, в частности, эсеровскую переделку того же "Конька"), детскую книгу Воронковой о Фемистокле "Герой Саламина" и взрослый научпоп польского историка Кравчука "Закат Птолемеев", посвященный Клеопатре.
В одном томе с "детским" "Принцем и нищим" Марка Твена мне попался совершенно недетский "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", коего я прочел даже, пожалуй, с большим удовольствием. На одних полках с официальным трехтомным Маяковским и полузабытым Дмитрием Кедриным, я натыкался на ксероксного Высоцкого и машинописного Мандельштама (без имени автора, так что я гораздо раньше выучил стишки про "ангела Мэри", чем узнал кто их написал, и какая его постигла трагическая судьба).
Уже в 5-6 лет я воображал край нашего семейного дивана стеной Рязани, о которой прочел в "Батые" Владимира Яна (впрочем, гораздо проще написанная его "Юность полководца" зашла гораздо лучше). Дитя книжного дефицита, я не имел на полке "Легенд и мифов Древней Греции" Куна, а потому соответствующие пробелы восполнял педантичной "Мифологической библиотекой" Аполлодора (еще не зная, что он — "псевдо").
 Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Не видев до 16 лет в глаза Библии, я честно пытался выудить текст десяти заповедей из "Библии для верующих и неверующих" советского обер-атеиста Ярославского, а его настоящую фамилию узнал из сборника "У Кремлевской стены", каталогизирующего похороненных на Красной площади советских вождей и героев.
Когда мне было 10 лет, меня отвлекли от "Нашествия Наполеона на Россию" Е. В. Тарле, затащили в великую русскую реку Волгу и едва там не утопили в тщетных попытках научить плавать. Отталкиваясь от дна, чтобы набрать в легкие воздуха, я дошагал до берега, и, пожалуй, самым сильным мотивом спастись было желание дочитать про пожар Москвы.
Ребенок, сидящий в своем уголке и блаженно читающий подобранные специально для него детские книги, — вымышленный персонаж. Лет после одиннадцати об этом фантоме можно вообще забыть: дети просто читают взрослые книги, которые хотят прочесть, и остановить их может только физическое их отсутствие.
Прочитав адаптированную версию "Тиля Уленшпигеля" Шарля де Костера, я нашел у нас на полках полное издание этого романа и вдоволь насладился его средневековыми жестокостями, крайне поверхностной эротикой, а главное — многостраничными описаниями исторических перипетий восстания Нидерландов против Испании. А уж чего я повычитывал в "Проклятых королях" Мориса Дрюона, которые мне достались вместо распространенных среди сверстников "Трех мушкетеров" (мы были семьей интеллигентной, но бедной, и попсовых подписных изданий у нас дома не было), я, пожалуй, промолчу. Замечу только, что после описаний жизни и смерти Эдуарда II Английского обращение в "Лигу сексуальных реформ" мне не грозило. 11-12 лет я провел с "Петром Первым" Алексея Толстого, "Мастером и Маргаритой", рассказами о патере Брауне Г. К. Честертона, "Полыми холмами" Мэри Стюарт. Всё это было отнюдь не детское, но весьма формирующее ум и душу чтение.
Наблюдение за своими детьми только подтверждает былые воспоминания. До тинейджерства они читают и листают "что придется", а после — "что хотят", и в 11-12 лет уже вполне способны читать взрослые книги и для своего удовольствия, и для школы, и когда им оттуда что-то надо, например, анализ купола Брунеллески во Флоренции для зачёта в художественной школе.
Поэтому если вы хотите повлиять на детское чтение, то следите не только за составом "детских книг", но и за доступностью "взрослых". Какие-то, может, стоит убрать подальше, а какие-то пододвинуть поближе, в зону постоянного доступа.
Но в целом развитие ребенка зависит от общего количества и качества книг в доме. Дети наполовину читают то же самое, что и родители. Нельзя, будучи невеждой с полутора томами на полках, вырастить читающих детей. Чем больше читают родители, тем больше читают дети, исключений нет и быть не может.
 Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Означает ли сказанное, что "детская литература" не нужна или излишня? Разумеется, нет! Дети любят детские книги, которые специально для них написаны и изданы. Так же, как охотно они играют в игрушки, отлично осознава, что это именно игра со специально предназначенными для неё предметами, они читают именно детские книги, получая удовольствие от созданного в них особого мира и приспособленного к детскому самосознанию и уровню развития изложения. Поэтому подбор детской библиотеки — это весьма ответственное для родителя дело.
Прежде всего необходимо помнить, что все дети любят картинки. Со времён кэролловской Алисы тут ничего не изменилось.
Красивые детские рисунки, роскошные иллюстрации, всевозможный интерактив типа книг-раскрасок, 3D-книг и книг-паззлов — всё это нашим отпрыскам действительно нравится. Поэтому красиво проиллюстрированный вариант всегда следует предпочесть слабо или плохо иллюстрированному. А рисунки в реалистической или красочно-диснеевской манере всегда более уместны, чем распространившиеся в последнее время на Западе дегенеративные иллюстрации с неправильными пропорциями, глазами-пятаками и нарочитым уродством. Некоторые дети любят аниме, некоторые только Диснея, но вот это убожество не любит никто.
Далее, дети очень любят энциклопедии. Они правда очень любят энциклопедии и книги, которые устроены по тому же принципу — как свод знаний.
Если предоставить им выбирать самим, то они и натащат к кассе прежде всего энциклопедических книг, другое дело, что среди них запросто может оказаться какая-нибудь "Большая книга волшебства" или "Энциклопедия квиддича". Советские детские энциклопедии от совсем простенькой "Что такое? Кто такой?" до многотомной подростковой были, по-своему, неплохи, но с ужасающей и никому теперь не интересной идеологической обработкой. Потом появились детские энциклопедии нового поколения, такие как легендарная "Аванта+" с её прорывными томами по истории и религии. Сейчас энциклопедий великое множество, и задача родителя — выбрать то, что в максимальной степени соответствует современным образовательным требованиям и тому мировоззрению, которое вы хотели бы сформировать у ребенка.
Фундамент, на котором стоит детское чтение не только с младшими детьми, но и с подростками, — это совместное чтение вслух.
Трудно, наверное, придумать в современной жизни более сближающий детей и родителей ритуал. Причем очень важно, чтобы совместное чтение не было бы односторонней эксплуатацией родителей. Читать с детьми нужно по очереди, а если детей, способных читать, больше одного, родителю лучше вообще исключиться из процесса чтения, предоставив это самим детям. Зато прямая миссия родителя — тщательно следить за верными ударениями, разъяснять непонятные слова, давать дополнительную информацию там, где она может быть необходима.
 Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Спор о том, что лучше читать детям — "старые, добрые, проверенные нами самими книги" или "что-то новое", "Робинзона Крузо" или "Гарри Поттера" — решается очень просто. Начнем с того, что у множества детей, выросших на "Гарри Поттере", уже самих появились дети, и для этих родителей книги Роулинг — почтенная классика.
С другой стороны, значительная часть набора советского детского чтения, сформировавшего старшее поколение, малоактуальна. Приятно это для кого-то прозвучит или нет, но большая часть книг Аркадия Гайдара — это довольно разнузданная советская и даже точнее — сталинская пропаганда.
Если вы не ставите себе задачи сформировать "юного пионера", то акцентировать на них внимание ребенка, а тем более навязывать их ему, точно не стоит. И не надо себя обманывать, что "эти книги учат тем ценностям, которые вне времени". Можно назвать множество других книг, которые учат тому, что "вне времени" и которые не написаны при этом палачами сибирских крестьян. Если кого-то и читать из авторов, считаемых "советскими", то это А.С. Макаренко. Это, конечно, взгляд скорее со стороны воспитателя, чем воспитуемого, но подростки эти книги заслуженно любят.
Русские в ХХ веке, конечно, оказались в трагической ситуации, когда целые пласты культуры у нас формировались исключительно в советском контексте, с соответствующими реалиями и идеологией. У нас есть русская не советская и даже антисоветская литература, но нет русского не советского кино, так как большевистский переворот произошел в самом начале эры кинематографа. Так же получилось и с детской литературой: если советская власть её сознательно развивала и культивировала, причем в своем специфическом духе, то у белоэмигрантов просто не было возможностей и материальной базы создать сколько-нибудь массовую детскую литературу.
Поэтому, увы, значительная часть детской литературы на русском языке, созданная в ХХ веке, — это мины замедленного действия, содержащие в лучшем случае описание обезбоженного, оторванного от русской традиции быта, а в худшем — так и вовсе прямую "антипоповскую" пропаганду (помню какое, несмотря на все старания автора, гадкое впечатление произвела на меня в детстве книга некоего Аронова "Цирк приехал", в которой хороший радостный цирк противопоставлялся лживой церкви, привлекающей людей фальшивыми святыми мощами).
Совсем другим духом, конечно, веет от произведений двух замечательных писателей, двух друзей — Леонида Пантелеева (общепризнанная "Республика ШКИД" и потаенное "Верую") и Евгения Шварца, на сказки-пьесы которого смотришь совсем другими глазами, когда понимаешь, что их создал верующий христианин и участник Ледяного похода Добровольческой армии.
В советской детской литературе есть, конечно, немало вещей, проверенных временем и совершенно актуальных и сегодня, но по большей части это книги, касающиеся былых веков, такие как книги о древней Греции Любови Воронковой, "Мальчик из Холмогор" Ольги Гурьян, "Бриг «Меркурий»" Геннадия Черкашина, или о вымышленных вселенных, как прото-фэнтези Александра Волкова, начавшаяся с перелицовки "Волшебника из страны Оз", но продолжившаяся самостоятельными и весьма глубокими книгами.
 Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Но вот стоит ли морочить детские мозги "Незнайками" и прочими книгами, в которых придется больше объяснять, "что хотел сказать автор", "что он мог сказать", "чего он не мог сказать" и "что сказал совершенно неправильно", я отнюдь не уверен.
Конечно у выросших на "Незнайке" взрослых он вызывает восторг: вот, мол, как точно Носов все предсказал про акулий оскал капитализма. Но это наши взрослые дела и, зачастую, отработка наших комплексов. Детям, уже родившимся при этом оскале, просто не с чем сравнивать, да и я не уверен, что если бы они честно сравнили реальности, а не мифы, – их выбор был бы в пользу социализма. Скорее, уверен, в обратном. В общем, вместо разбора "Кампанеллы для маленьких" они за то же время могут прочесть дюжину более полезных книг.
Другая проблема в том, что та часть русской детской литературы, которая написана еще в старых реалиях, чаще всего слишком далеко отстоит от жизненного мира наших детей, так что зачастую им совершенно непонятна.
Конечно, с творчеством Лидии Чарской ("одно из лучших проявлений русской литературы", настаивал Фёдор Сологуб) следует их познакомить хотя бы из неуважения к той истерической ненависти, которую к ней питали идеологи раннесоветской детской литературы. "Смелая жизнь" о Надежде Дуровой или "Газават", который мне представляется вообще обязательным к чтению школьниками на Северном Кавказе. Можно даже поручить детям подчеркнуть карандашиком все места, где писательница заражает их "сифилисом милитаристических и казарменно-патриотических чувств" (как брызгал ядом Чуковский). Но, боюсь, определенная историко-культурная и эмоциональная дистанция, особенно чувствующаяся из-за того, что речь идет о родном языке и о русской культуре, будет мешать полной передаче того огромного позитивного содержания, которое есть в этих книгах.
А вот "современная Чарская", как и современная детская литература вообще, у нас еще не сформирована, идут эксперименты, которые пока трудно признать однозначно удачными.
Если в детском "нон-фикшн" дела обстоят неплохо — работает целая фабрика военно-патриотических книг, детской православной литературы, в частности посвященной святым, — то русская детская беллетристика продолжает пребывать в сумерках либо со смысловой, либо с эстетической стороны. Есть, конечно, отдельные отрадные явления новейшего времени: "Дождь" Людмилы Дунаевой, "Приключения новогодних игрушек" и "Серёжик" Елены Ракитиной; "Облачный полк" Эдуарда Веркина, но в среднем по палате всё очень грустно.
Не проще дело обстоит и со сформировавшимся за советскую эпоху каноническим подбором зарубежной детской литературы. Есть, конечно, незыблемые скалы, вроде "Карлсона" или "Винни-Пуха" (пусть и в весьма своеобычном переводе Бориса Заходера). Но… "Сказки народов мира", вырванные из их мифоритуального контекста. Сказки Андерсена, лишенные в их переложениях всякого христианского смысла. Изощренные политические сатиры Свифта, зачем-то подававшиеся как детское чтение. "Книга джунглей" в котором Багир — друг, старший товарищ и отчасти соперник Маугли — превращен в пантеру Багиру.
При этом не забудем, что значительная часть такой детской литературы, особенно в подростковой её части, — это взрослые книги, по каким-то причинам назначенные "детскими", и особенно "подростковыми", как колониальный роман Дефо о Робинсоне, или поп-чтиво Дюма.
Мысль о том, что современные популярные среди подростков книги — фэнтези, "поттериана", "толкиенизм" или "игра престолов" — чем-то принципиально хуже и аморальнее того, что писалось 150-200 лет назад, — это ретроградная иллюзия, ничего общего с традиционализмом и консерватизмом не имеющая.
 Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
"Гарри Поттер", пронизанный христианскими мотивами, — гораздо более душеполезная книга, чем, к примеру, произведения оккультистки-теософки Памелы Трэверс о летающей няне Мэри Поппинс. "Игра Престолов" Джорджа Мартина, если вырвать (можно буквально) из неё 3-4 непристойных страницы, окажется очень полезной для девочек-подростков книгой о том, что нельзя ради расположения чужих и романтических фантазий предавать свою семью и своих родных, как это сделала Санса Старк. О таких чистых образцах настоящей христианской литературы, как "Хроники Нарнии" К. С. Льюиса, я уж и не говорю.
Хотя в "споре о старом и новом" заранее приписывать детям выбор в пользу нового — тоже серьезное заблуждение. Мои дети настаивают, что "Приключения Тома Сойера" гораздо интереснее книг про "Гарри Поттера" (которые, к тому же, можно посмотреть в виде фильмов).
И здесь, пожалуй, содержится самый важный урок детского чтения: можно и нужно предоставить детям возможность выбирать в этом книжном море самим.
Да, посоветовать и предложить то, чего они не знают. Да, наложить интердикт на то, что может казаться им интересным, но что, как вы точно знаете, не следует допускать по нравственным, мировоззренческим или эстетическим причинам (хотя тинейджеров запретами остановить уже просто нереально, можно лишь стараться не привлекать их внимания к той или иной дряни). Но в целом дети с очень раннего возраста способны сами выбрать то, что им нужно.
Моему сыну по наследству от отца досталась любовь к замечательным "Книге будущих командиров" и "Книге будущих адмиралов" Анатолия Митяева, в 2000-е годы переизданным со множеством иллюстраций и написанным автором заново взвешенным рассказом о гражданской войне, который отражает деяния не только красных, но и белых.
Но вот сын сам, не будучи еще пяти лет, отыскал, что у Митяева есть еще и книга о Великой Отечественной войне "Письма с фронта" (я о такой даже никогда и не слышал), и затребовал её себе.
Старшие дети в 10-12 лет самостоятельно ходят по книжным ярмаркам, таким как ММКЯ или Nonfiction, и выбирают себе книги, рационально расходуя выделенные им ресурсы. Родителям остается лишь примечать, не пропустили ли они что-то полезное вроде детского атласа памятников культуры регионов России.
Чем раньше у ребенка сформируется привычка самостоятельно формировать свою библиотеку, тем меньше ему грозит опасность вырасти бескнижным интернет-маньяком.