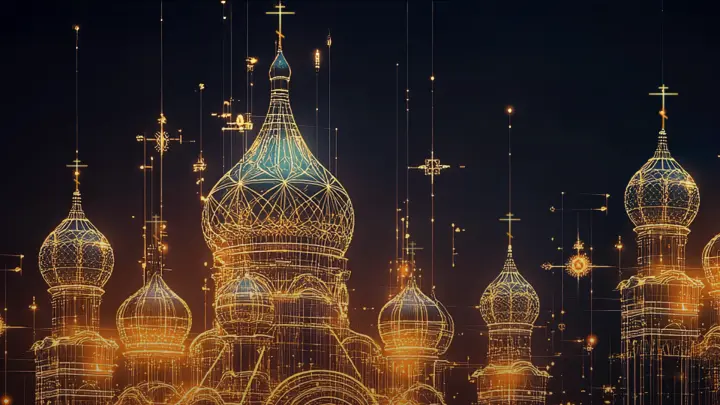Почему у Серебренникова не получилось «Лето»
Вторую неделю в российском прокате идёт фильм о Викторе Цое «Лето» скандального режиссёра Кирилла Серебренникова. Почему кино из жизни «хипстоты» брежневских времён мало кого вдохновило, размышляет кинообозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров
По загадочной причине современные российские режиссеры лучше снимают музыкальные клипы, чем фильмы. Феноменальный успех «Льда» был обеспечен его клиповой природой. В «Тренере» Данилы Козловского посредственный во многих моментах фильм вытягивало исполнение футбольными фанатами «Последней поэмы». Фильм Кирилла Серебренникова «Лето», посвященный Виктору Цою и Майку Науменко, спасает от полного провала тоже музыкальный клип... не на песни Цоя и Майка.
Пассажиры ленинградского троллейбуса на разные непрофессиональные голоса исполняют композицию Игги Попа «Пассажир», пока Витя Цой и Наташа Науменко везут Майку на работу подарок — купленную на толкучке фарфоровую чашку прямо с кофе. Остановку пропустили, но Цой с ловкостью акробата забирается на крышу и отцепляет «рога» троллейбуса. Всё это действительно настолько великолепно, что в этот момент перед Серебренниковым хочется снять шляпу, простить его режиссерские пошлости и предоставить 10-процентный дисконт на альтернативно «освоенную» сумму госконтракта, доведшую его до сумы и тюрьмы.
К сожалению, к четырехминутному клипу на «Пассажира» прилагается тягомотный двухчасовой фильм ни о чем. Когда я читаю положительные и даже ностальгически восторженные отзывы на него со стороны знакомых, которых не запишешь в либералы и гей-тусовку, я начинаю подозревать, что рецензенты просто боятся признаться: к концу первого часа они заснули. И мучительных судорог второй половины фильма, начинающихся где-то после «первого концерта», попросту не видели: ни в очередной раз играющей одинаково и введенной в фильм только, чтобы обругать партию, Лии Ахеджаковой, ни нелепой «пресс-конференции», ни повторов кадров, ни Гребенщикова, которому не придумали ни единой минимально умной реплики, ни трикстерской пародии на спилберговский «Список Шиндлера» — старухи Кореневой в красном платье посреди черно-белого фильма... Лично меня в этот час хищения отпущенного каждому не в таком уж большом количестве времени спас только по наитию купленный «диван для поцелуев», на нём можно было удобно подремывать, а не смотреть внимательно на экран.

Съемочная группа фильма «Лето» перед премьерой картины на Каннском кинофестивале. Фото: www.globallookpress.com
Зачем нужна была эта нудиловка, необъяснимо. Но давайте вообразим, что Серебренникову хватило ума остановиться, и он закончил там, где можно и нужно было закончить. Давайте поговорим о первой половине «Лета».
Многие комментаторы уже отметили, что фильм получился не столько о Цое, как было обещано, сколько о Майке Науменко, роль которого исполнил Роман Билык (он же Рома Зверь). Поп-музыканта хвалят за то, что он действительно похож на Майка и вообще неплохо играет. Вопросы похожести на прототип в эпоху Сергея Безрукова обсуждать смешно. Но вот что не подделаешь — это голос и умение петь.
Петь, как Майк, у Ромы Зверя катастрофически не получается. На то, что фильм тебе понравится, теряешь всякую надежду, когда вместо изысканных издевательских рулад из «Дряни» — «Ты клянчишь деньги на булавки — ты их тратишь на своих... друзей» — ты слышишь, как актер выдает текст без всякого интонирования, с топорностью механической гильотины. Возникает ощущение, что ему дали текст и ноты, а записей «Зоопарка» он никогда не слышал.
По сцене на пляже, слишком «летней» даже для лета в Северной столице, не прошелся только ленивый. Все многочисленные живые участники событий указали на то, что Серебренников снял что-то из жизни современной московской хипстоты, а никак не ленинградских рокеров брежневских времен. Чудовищно глупо звучит из уст еще не познакомившегося с Цоем Майка песня-пародия на цоевскую манеру — «Лето». Да и патологическая фиксация на голых задах так режиссера и не отпустила.

Актеры Ирина Старшенбаум и лидер группы "Звери" Роман Билык на премьере фильма "Лето" режиссера Серебренникова в столичном Гоголь-Центре. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Любопытно в этой пляжной сцене другое — перенос на советские восьмидесятые прямо-таки кастового иерархического сознания современной России и Запада. Майк подан этаким «рок-гуру» (а гуру Майк по известной всем причине не был и быть не мог), по сути, главой секты, окруженным пажами и фрейлинами. Молодые музыканты почтительно, робея, несут ему «показать песни», а он снисходительно принимает их оммаж и вступительный взнос в форме портвейна, придумывая им припев «Мама-мама» и название «Гарин и Гиперболоиды». Вообще-то это название было придумано самими Цоем и Рыбиным на отдыхе в Крыму, но последнего прогрессивный российский режиссер по понятным причинам показать не может. Кстати, тот самый отдых в Крыму состоялся тем самым летом 1981 года, когда якобы развивается действие серебренниковского фильма.
Страх и ненависть в Каннах
Еще одна чисто феодальная сцена — первый концерт «Гиперболоидов», когда Майк сам берет в руки гитару и играет соло в песне «Битник», чтобы то ли поддержать интерес к молодым музыкантам в глазах публики, то ли подчеркнуть своё старшинство. Это соло и в самом деле имело место в 1982 году на первом концерте группы, называвшейся уже «Кино», и ничего «покровительственного» в этом жесте не было. Локомотивом для Цоя, как и для самого Майка, был Борис Гребенщиков, задвинутый на периферию фильма Серебренникова по понятным причинам — ему сценарий этого действа резко не понравился.
Некоторые черты Майка ухвачены, впрочем, очень точно. Науменко и в самом деле был в значительной степени переводчиком между западной и русской рок-традицией. Он много слушал, много переводил, не стеснялся «слизывать» у Боба Дилана и Лу Рида. Некоторые даже называют его «великим плагиатором», что, конечно, не совсем справедливо — большинство его текстов оригинальны. Но то, что «Сладкая N» — это «Sweet Jane» Лу Рида в интерпретации «Mott The Hoople», «Дрянь» — это «Baby Face» того же Лу Рида, «Мажорный рок-н-ролл» — это «Reelin' and Rockin» Чака Берри, а «Буги-вуги» — это «I Love to Boogie» T-Rex, это чистая правда.
А Майк и впрямь оказался довольно аполитичен, за что его обличает как бы альтер-эго режиссера — «Скептик», — бичуя его за отсутствие гражданской позиции. Мол, пока Дилан пишет про невинно осужденного боксера, у Майка нет даже фиги в кармане.
На самом деле, взгляды у Майка были, но они настолько отличались от «принятых» в его среде, что он явно предпочитал их лишний раз не светить.
Вспоминает барабанщик «Зоопарка»:
Он видел массовое барыжничество в масштабах страны и не принимал его. Искренний патриот, Майк никак не мог понять, как можно приноровиться к переменам, которые ведут к явному развалу империи. Мы много беседовали с ним о политических переменах, и я был крайне удивлен, что внешне аполитичный Майк имел собственные (и весьма странные) взгляды на многие волновавшие нас тогда проблемы. Как-то раз он в приливе откровенности показал мне только что написанный текст — ироничные, горькие и злые стихи, полная противоположность всему написанному им до того. С безжалостной четкостью я осознал тогда: Майк не принимает время, а время не принимает его. Всё, дальше — финишная прямая, подумал я».
В песнях «Зоопарка» поражает полное отсутствие интеллигентского социального расизма. Даже когда Майк пишет «Гопников», он имеет в виду... гопников, урок, люберов, шпану, а не простой народ. О последнем, напротив, у него есть «Песня простого человека», написанная со всяческой симпатией. Совершенно удивительная и практически невозможная для эстета-западника черта.
Между тем для самого Серебренникова, как и для большей части нашей «творческой интеллигенции», социальный расизм — это буквально воздух. Начиная с отвратительного вида шашлычников, зовущих Цоя присоединиться «на троих», и вперед, погнали. Вся ненависть к плебсу, который хочется «убивать-убивать-убивать», так фонтанирующая в «Изображая жертву», копированием приемов которого переполнено «Лето», выплескивается в сцене в электричке, когда унижаемые «совками» панки воображают себе побоище с элементами гомосексуального дебоша. На самом деле очень полезная сцена, наглядно показывающая, что проблематика «гей-парадов» не имеет никакого отношения к праву меньшинств тусоваться в уголке — в основе идея именно оскорбления, унижения и изнасилования всевозможной «ваты».
Впрочем, некоторый прогресс по сравнению с предыдущей версией серебренниковского социального расизма все же есть. В «Лете» появляется надежда, что можно обойтись без «рыбы-фугу» и плебс можно все-таки переубедить и переделать. Дед на кухне, послушав цоевскую «Восьмиклассницу», её одобряет и просит написать песню про фронтовика. Сердитый администратор ДК дает панку расческу, чтобы тот перед начальством привел себя в порядок. Наконец, то самое хоровое исполнение «Пассажира» в троллейбусе как бы намекает, что однажды все эти недочеловеки своими смешными скрипучими голосами всё же запоют «наши» песни.
Страх и ненависть к «этому народу». Лабиринты «Кинотавра»
Ну и отдельную улыбку доставляет наивное представление Кирилла Серебренникова о благодетельном начальстве, которое все-таки оценит творческого человека, даст ему немного подкормиться и начнет даже опекать и гордиться (хотя именно такая опека для режиссера в итоге закончилась неприятностями). Благодетельное начальство представлено в лице благодушной и ироничной «мамочки» Анны Александровны, у которой утверждаются («литуются») песни членов рок-клуба. Сцена утверждения песен Цоя, квалифицируемых как «сатирические» и критикующие половую распущенность («Восьмиклассница»), тунеядство («Бездельник»), алкоголизм («Мои друзья»), действительно вызывает искренний хохот, даже если она насквозь нереалистична, и фраза «Сатирическая песня талантливого молодого автора» тянет на мем. Хотя вот если бы начальство усмотрело в песне «Алюминиевые огурцы» намек на проблемы в сельском хозяйстве, то молодому автору было бы несдобровать.
О любовной линии, которая вроде бы должна была собирать фильм, сказать, по сути, нечего — настолько она сухая и вымученная. Базируясь на созданном покойным Александром Житинским мифе (многократно опровергнутом всеми живыми свидетелями), она откровенно не получилась — в ней нет ни целомудрия, ни трагедии, ни страсти. Ирина Старшенбаум играет Наталью Науменко очень симпатично, особенно удалась прическа и совершенно не по скудной эпохе изысканные блузки, платья и плащи, но ей приходится это делать, «не опираясь на партнера». Ни муж Майк, ни предполагаемый возлюбленный Цой ей, по сути, не подыгрывают. Поэтому лучше всего ей удается роль матери.
Кино с Холмогоровым: "Довлатов" - отличный фильм про Иосифа Бродского
Вообще, героям «Лета», по сути, не о чем говорить. Это разительно отличает работу Серебренникова от «Довлатова» Германа-младшего. Вроде бы и там и тут практически один и тот же фильм — город на Неве, неформальная культурная тусовка, отчужденность от окружающей советской действительности, герои, которые скоро станут легендой, картины их повседневной жизни, связанные скорее атмосферой и сюжетом. Но насколько «Довлатов» получился глубоким кино с множеством смыслов, настолько «Лето» оказалось плоскодонным. Герои рок-н-ролла говорили о музыке и поэзии, философии и религии, они были интересными людьми. В сценарии «Лета» ни разу не удалось придумать им больше трех содержательных реплик подряд. Весь пар ушел в персональные выпады против Марьяны Цой и группы «Россияне», чей лидер Георгий Ордановский пропал без вести в 1984 году, а то, возможно, мы бы знали его так же хорошо, как Гребенщикова, Науменко и Цоя...
Если «Довлатов» получился фильмом не о Довлатове, но, безусловно, о России, Советском Союзе и их непростом соотношении, то «Лето» получился фильмом не о Цое, не о Майке, не о ленинградском рок-клубе, не о 80-х, а... о каминах.
Такое часто случается с не очень удачными фильмами. В отсутствие хорошей актерской игры и режиссуры главную роль начинают играть вещи, иногда — фоновые вещи. И вот главными героями «Лета» оказываются дорогие буржуазные камины питерских коммуналок, некогда бывших многокомнатными шикарными квартирами профессоров, адвокатов, балерин и офицеров, а потом уплотненных коллективным швондером. И вот рядом с этими потерявшимися в безвременье, десятки лет уже не топлеными каминами постепенно заводится какая-то новая интересная жизнь, не сводящаяся к «и Ленин такой молодой». И камины, наверное, улыбаются этой жизни, прорастающей через морок. Раз нельзя было снять нормальный фильм, я хотел бы увидеть ту же историю глазами питерского камина.
А так — увы. Бюджет опять не освоен.